При словах «индонезийская тюрьма» перед глазами читателя, вероятно, встают кадры из превосходного боевика «Рейд-2», который, наряду с первым «Рейдом», продемонстрировал миру новый уровень индонезийского кинематографа. Вы наверняка помните лютый замес заключённых в грязи, попытку коллективного избиения главного героя в туалете, и так далее. Если к словам «индонезийская тюрьма» добавить «времён Нового Порядка», то читатель, вероятно, представит себе некую жуткую смесь из кровавого мифа и антиутопии, где церберы убивают заключённых-коммунистов и сепаратистов, зэки режут друг друга, администрация кормит их гнилыми объедками, а камеры представляют собой наглухо замурованные звукоизолированные карцеры, в которых местные фельдфебели Ржепы по ночам сокрушают рёбра несчастных.
Всё это, конечно, несколько расходится с действительностью, но… индонезийская тюрьма времён Нового Порядка действительно чаще всего была опасным и неприятным местом.

Прежде, чем говорить о Новом Порядке, следует заглянуть в колониальное прошлое Индонезии и слегка коснуться особенностей её судебной системы. Она была чрезвычайно запутанной: в тогдашних Голландских Индиях сосуществовало несколько судебных систем, что создавало серьёзную путаницу и вносило вклад в создание правового хаоса, который болезненно аукался уже после обретения Индонезией независимости.
1. Правительственные суды для европейцев — широко распространённые, наиболее квалифицированные, авторитетные и стоящие превыше всех остальных; их деятельность и кодексы были фактически скопированы с судебной системы метрополии. Верховный суд носил название Hooggerechtshof. В европейских колониальных судах работали профессиональные юристы, обучавшиеся на родине; это была своего рода «правовая элита» колонии. Первоначально под их юрисдикцию попадали только европейцы, однако в 1896 году к ней приписали и японцев. Расово-этнический вопрос, однако, отступал на второй план, когда речь заходила о коммерческих соглашениях и контрактах, которые по умолчанию относились к юрисдикциям метрополии: «евросуды» охотно брались за оформление различных финансовых соглашений, невзирая на цвет кожи или этническую принадлежность клиента.
2. Правительственные суды для неевропейцев. Это была запутанная система, которую колониальная администрация изменяла по собственному желанию, пытаясь создать выгодный для себя «этнический баланс» внутри многонациональной колонии. Одной из основных проблем для властей (как колониальных, так и постколониальных) являлись китайцы — достаточно мощная в экономическом отношении диаспора. Власти пытались контролировать жизнь диаспоры, особенно финансовую, самыми разными способами: например, в 1854 году китайцы были признаны равноправными с индонезийцами, а в 1855 администрация сделала исключение для коммерческой деятельности китайцев «и других иностранцев азиатского происхождения», и перевела их финансовую деятельность под собственный коммерческий кодекс, тем самым получив контроль над китайским бизнесом. В вопросах же уголовного права китайцы считались «равными индонезийцам» и находились в юрисдикции судебной системы для коренных жителей, которая действовала более жестоко и была более коррумпированной, нежели «евросуды».
3. Исламские суды, распространённые в Мадуре, на Яве, отчасти в Сулавеси и на Суматре, вызывали неприязнь как колониальной администрации, так и индонезийских элит, поскольку ислам рассматривался как религиозно-политическая сила, способная нарушить хрупкое равновесие, а в перспективе — объединить людей под лозунгами, отрицающими как власть голландцев, так и власть уже сформировавшихся индонезийских элит. Поэтому администрация довольно активно взращивала «народно-правовой противовес исламским судам» — адаты.
4. Система адатов была также ограничена колониальной юридической системой. В теории она могла действовать свободно, «пока её постановления не нарушали основных норм морали и европейских законов». В реальности, однако, колониальная администрация скорее была склонна видеть в адатах не столько уникальную и чрезвычайно ценную смесь культур и традиций, сколько банальный противовес исламу и революционному национализму, поэтому она регулярно вмешивалась и реконструировала систему адатов в собственных интересах. Здесь можно было бы вспомнить голландскую политику 1920-1930-х годов, получившую название Balisering (в некоторых источниках — Baliseerin), балинизация. Она была направлена на поддержку и взращивание балинезийских традиций и адатов, в пику яванскому происламскому национализму, который как раз бурно развивавался в то время.
Было бы неправильно, впрочем, приписывать создание конфликтов между исламом и адатом/языческими верованиями исключительно вмешательству администрации; разумеется, языческие/»традиционалистские» парадигмы конфликтовали с исламской, нередко порождая удивительные локальные «цивилизационно-идеологические» смеси и уникальное искусство; примером может служить народ Минангкабау. Ряд исследователей, в частности, Тауфик Абдулла, утверждают, что «культурно-дискурсивная раздвоённость» (адат vs ислам), а с учётом действий европейской колониальной администрации — то и «растроённость» (адат и традиции vs ислам vs «западники») создали уникальный «характер Минангкабау». Американский исследователь Фэй-Купер Коул в «The peoples of Malaysia» также указывал на уникальность исторического опыта Минангкабау, утверждая, что этот народ, вероятно, даёт наиболее яркий пример сохранения старых обычаев, традиций и верований, выстоявших, хотя и несколько изменившихся под влиянием внешних, более поздних влияний.
В отдельных небольших районах существовала пятая категория судов — местные, этнические, весьма закрытые и решающие некрупные правовые проблемы в рамках геттоизированной этнической группы. Индусы и китайцы, например, нередко прибегали к своим этническим судебным традициям, не подключая официальные инстанции.
Такая система – запутанная, расистская, основанная на принципе «разделяй и властвуй», не могла не породить колоссальную коррупцию и бардак. После того, как Индонезия стала независимой, новое правительство унаследовало юридическую неразбериху от колониальной администрации. Ситуация усугублялась тем, что к власти пришли в буквальном смысле национал-социалисты. Сукарно был человеком радикально националистических левых убеждений (левизна его, впрочем, не была марксистско-догматической; он мыслил достаточно гибко и кренился в разные стороны, в зависимости от политической ситуации, то цитируя Энгельса, Каутского и левопрогрессистские речи, то вдруг вспоминая о древних индонезийских традициях.) Цензура при нём, однако, стала поистине драконовской: закрывались кинотеатры, пускавшие в прокат иностранные фильмы — этот источник «опаснейшего яда западных идей», книги и журналы тоже запрещались в больших количествах, этнические меньшинства оказались под сильным давлением (особенно досталось наиболее предприимчивым и организованным китайцам; кроме них пострадали индусы и арабы.) В стране бушевал финансовый кризис, обусловленный как общей разрухой после японской оккупации и тяжелейшей вооружённой борьбы за независимость, так и действиями Сукарно, который умел говорить зажигательные речи, но не очень умело управлял страной, закручивая гайки и всё сильнее взвинчивая националистические чувства граждан. Страна столкнулась с дефицитом медикаментов и товаров первой необходимости, при этом фактически существуя в парадоксальных условиях между жёсткой диктатурой национальных социалистов и террористической войной ультралевых, сепаратистов и крупных ОПГ. В Индонезии произошёл «ползучий» военный переворот (Сукарно некоторое время сохранял свой пост, но генералы постепенно изолировали его и «отжимали» власть), в итоге которого к власти пришёл Сухарто, радикально сменивший курс на правонационалистический, умеренно-прозападный и жёстко антикоммунистический.
После масштабной зачистки коммунистов и сочувствовавших им в 1965-1966 годах, военные начали приводить страну в порядок. Важнейшим политическим и социальным фактором в стране были чёрный рынок и организованный криминал. Первый помогал простым индонезийцам выживать и приобщаться к простым радостям жизни, вроде кино, во время правления социалистов; второй активно участвовал как в антиколониальной борьбе, так и в правом мятеже и антикоммунистических акциях, и в целом выражал лояльность новому режиму, при условии сохранения некоторой автономности. Новое правительство поступило достаточно мудро: милитарес и их гражданские союзники не стали уничтожать гангстеров, которые показали себя чем-то вроде «либертарианцев-патриотов» и назывались preman (от голландского vrijman — «свободный человек»), а предпочли интегрировать их в общество, очертив границы, за которые не следует выходить и оставив им определённую независимость. Разумеется, это диктовалось исключительно практическими соображениями: режим нередко подвергал preman самым брутальным наказаниям, в том числе внесудебным расправам (самый известный эпизод — «Таинственные убийства» (Pembunuhan Misterius), или «Таинственные отстрелы» (Penembakan misterius), произошедшие в 1983-1985 годах, когда тысячи гангстеров были перебиты «неизвестными» в крупнейших городах страны. Отчасти это было правительственным ответом на волну преступности, поднятую преманами в начале 80-х, отчасти причина была в том, что полиция и частные охранные структуры, аппетиты которых сильно выросли, требовали свою долю власти, «отжимая» её у гангстеров.) К роли преманов в индонезийской истории мы вернёмся ещё не раз.
Правовой хаос, бесконечная борьба за независимость, тяжёлые экономические условия, левая диктатура, смещённая посредством военного путча, никак не способствовали улучшению, упрощению и прозрачности судебной и пенитенциарной систем страны. Заключённых было много; среди них были как «политические» (коммунисты, радикальные исламисты и всевозможные сепаратисты, которых в Индонезии хватало с избытком), так и обычные уголовники.
Многие индонезийские тюрьмы Нового Порядка представляли собой причудливое сочетание необычной свободы для арестантов и жестокости, порой принимающей бесчеловечные или абсурдно-карнавальные формы. Охрана, например, в ответ на жалобы заключённого на озноб или боли в животе, могла заставить его бегать по ночному двору, или бить в живот, пока он не «излечится», т.е. не прекратит жаловаться (или не потеряет сознание.) Нередко практиковалось длительное заключение без суда; например, известного левого поэта и драматурга Ситора Ситуморанга таким образом продержали в тюрьме Салемба целых десять лет (1966-1976), при этом ему было запрещено писать. С другой стороны, охрана зачастую не мешала, а то и поощряла художественную самодеятельность, даже в не положенное для неё время. Заключённым предоставляли возможность молиться в тюремном дворе. По праздникам — на День Независимости, День Героев и День священной Панчасилы, проводилась торжественная церемония поднятия флага, которая скрашивала обыденную скуку.
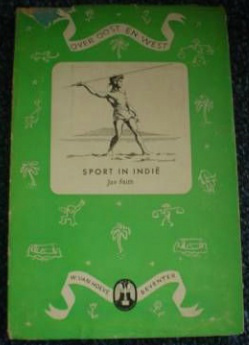 Кроме того, во многих тюрьмах были большие дворы, где можно было заниматься спортом. Лично я встречала упоминания о гандболе и воллейболе, однако, учитывая невероятную популярность футбола и бадминтона в Индонезии, эти виды спорта наверняка тоже практиковались. С другой стороны, бадминтон — это вид спорта, требующий специфической и быстро ломающейся (а в тюрьмах — нередко ломающейся об головы зэков) экипировки, а следовательно затрат, поэтому вопрос остаётся открытым. Замечу, тем не менее, что бадминтон считался «истинно народным индонезийским спортом, свободным от дискриминации» и расистской атмосферы. С самого взлёта популярности игры (который произошёл примерно в 1920-1930-х) в бадминтон играли исключительно коренные жители страны и… вездесущие китайцы; европейцы по какой-то причине его игнорировали. В книге Sport in Indië (by Jan Feith), например, перечислены двадцать голландских спортивных ассоциаций на Яве (теннис, футбол, баскетбол, гольф), и ассоциации бадминтона среди них нет. Помимо «народнического» имиджа, многие находили в бадминтоне своеобразную «третьемиристскую поэтичность». Спортивный комментатор Игнатиус Сунито замечал, что «бадминтон это часть жизни, самобытности, и даже «религия»… Он устраняет печаль, страдание, нищету, бессилие и несправедливость».
Кроме того, во многих тюрьмах были большие дворы, где можно было заниматься спортом. Лично я встречала упоминания о гандболе и воллейболе, однако, учитывая невероятную популярность футбола и бадминтона в Индонезии, эти виды спорта наверняка тоже практиковались. С другой стороны, бадминтон — это вид спорта, требующий специфической и быстро ломающейся (а в тюрьмах — нередко ломающейся об головы зэков) экипировки, а следовательно затрат, поэтому вопрос остаётся открытым. Замечу, тем не менее, что бадминтон считался «истинно народным индонезийским спортом, свободным от дискриминации» и расистской атмосферы. С самого взлёта популярности игры (который произошёл примерно в 1920-1930-х) в бадминтон играли исключительно коренные жители страны и… вездесущие китайцы; европейцы по какой-то причине его игнорировали. В книге Sport in Indië (by Jan Feith), например, перечислены двадцать голландских спортивных ассоциаций на Яве (теннис, футбол, баскетбол, гольф), и ассоциации бадминтона среди них нет. Помимо «народнического» имиджа, многие находили в бадминтоне своеобразную «третьемиристскую поэтичность». Спортивный комментатор Игнатиус Сунито замечал, что «бадминтон это часть жизни, самобытности, и даже «религия»… Он устраняет печаль, страдание, нищету, бессилие и несправедливость».
Случались и более экзотические и абсурдно-карнавальные развлечения: например, в той же тюрьме Салемба, где заключённым периодически разрешали ненормированные вечерние прогулки перед сном, разводили коз. Заключённые, пробираясь к вольеру во время спаривания животных, увлечённо наблюдали за этим процессом, шумели и становились эмоционально взвинченными. Однажды, по желанию ли тюремной администрации, или из-за шутки заключённых, работавших на кухне, все козы оказались одетыми в старую мешковину. Вероятно, это была попытка пресечь кучкование зэков вокруг вольера с козами и остудить их интерес к процессу спаривания, однако получилось ровно наоборот: козлы стали активнее атаковать самок и пытаться содрать с них «одежду», что вызвало настоящий восторг среди заключённых.
В дни посещений заключённые могли получать передачи от родных и близких. В списки запрещённых объектов, как правило, включались острые предметы, спички, бумажные изделия (от книг до сигаретной бумаги), всё, что могло послужить средством связи — и так далее, «на усмотрение офицера». Не могу говорить о всех тюрьмах, однако в вышеупомянутой Салембе передача подлежала двойному досмотру, который нередко больше походил на грабёж: офицеры забирали себе часть продуктов и предметов, ссылаясь на неясные «запреты» (тем, кому не повезло сидеть в российских тюрьмах или засылать туда грев, наверняка знакомо это мерзко-казённое: «Не положено!»), в результате чего заключённый мог получить… пустой пакет, как в старом анекдоте про почтового служащего, который вскрыл письмо, вытащил из конверта десять долларов, а в само письмо внёс поправку, зачеркнув единицу и получив в итоге: «Сынок! Посылаю тебе ноль долларов».
Практика ограбления заключённых, впрочем, появилась далеко не при Новом порядке; ещё в 1948 году, после Мадиунского мятежа, весьма жёстко подавленного лояльными правительству Сукарно войсками, заключённые расшифровывали аббревиатуру KMK (Komando Militer Kota, городское военное подразделение), как Kumpulan Moling dan Kecu («Клуб воров и грабителей».)
Индонезийцы — чрезвычайно эмоциональная, музыкальная, и литературная нация. Находясь в тюрьмах, они устраивали настоящие музыкальные концерты (в связи с этим особенно ценилась пластиковая посуда, которую использовали в качестве ударных), в которых в ход шли любые импровизированные инструменты, от ложек и прутьев решётки до черенков мётел; пытались делать ваянг-спектакли с помощью подручных средств (ваянг это традиционный индонезийский театр теней, очень атмосферный), пели, декламировали и устраивали различные перформансы. Охранники нередко относились к этим выступлениям весьма лояльно (хотя, конечно, многое зависело от региона, настроения охраны, тюрьмы и даже блока; в некоторых блоках строго режима было запрещено даже громко разговаривать, не то что петь или стучать по решётке.) После коллективного выступления — например, музыкального вечера, организатор обращался к обитателям тюремного блока, чтобы те «подогрели» оркестр. Благодарные слушатели разными способами засылали еду, сахар и сигареты «центровому», после чего тот распределял донат между всеми музыкантами — участниками концерта.
Помимо публичной арт-деятельности, заключённые из более «либеральных» тюрем и блоков развлекались работой по дереву и камню и созданием своеобразных «мусорных инсталляций»; многие изготавливали самодельные музыкальные инструменты, куклы и т.д.
Подводя итог, следует отметить, что индонезийская тюрьма была, по большому счёту, «доведённой до экстремума» проекцией всего индонезийского общества. Парадоксальная неинституционализированная свобода соседствовала с жестокостью, разнообразие вело борьбу с «государственной унификацией», криминал существовал рядом с политикой, а коррупция, с одной стороны, помогала заключённым, а с другой — усложняла им жизнь и создавала дополнительную и зачастую совершенно не нужную жестокость.
Индонезийская тюрьма Нового Порядка была парадоксальным, разнообразным и «разноцветным» в смысле эмоций и времяпровождения местом, а тюремная администрация пыталась внести в этот цветущий хаотический вихрь некое подобие порядка. Одни прибегали к «мягкой силе», поощряли творчество заключённых и даже устраивали музыкально-театральным группам выступления перед военными и тюремной администрацией; другие творили откровенный беспредел, прибегая к системе жестоких запретов, вплоть до запрета на громкий смех. Интересно, что в тюрьмах и блоках, где за смех могли избить, единственной отдушиной становился… туалет. Именно там можно было побыть собой, посмеяться или выплакаться, словом — пройти небольшой эмоциональный катарсис. Это, конечно, не может не напомнить об эссе Мишеля Лейриса «The Sacred in Everyday Life», в котором туалет фигурировал в качестве «левого», антииерархического, маргинального и тёмного полюса «сакрального», где можно было предаться странным и страшным фантазиям. Для многих индонезийских заключённых тюремный туалет тоже становился своего рода «антиэтатистским» и антииерархическим сакральным местом, где царила «смеховая» карнавальная культура.
Китти Сандерс, 2017